Ребенок должен быть уверен, что что бы ни открылось в его прошлом, это будет не его вина, а его беда
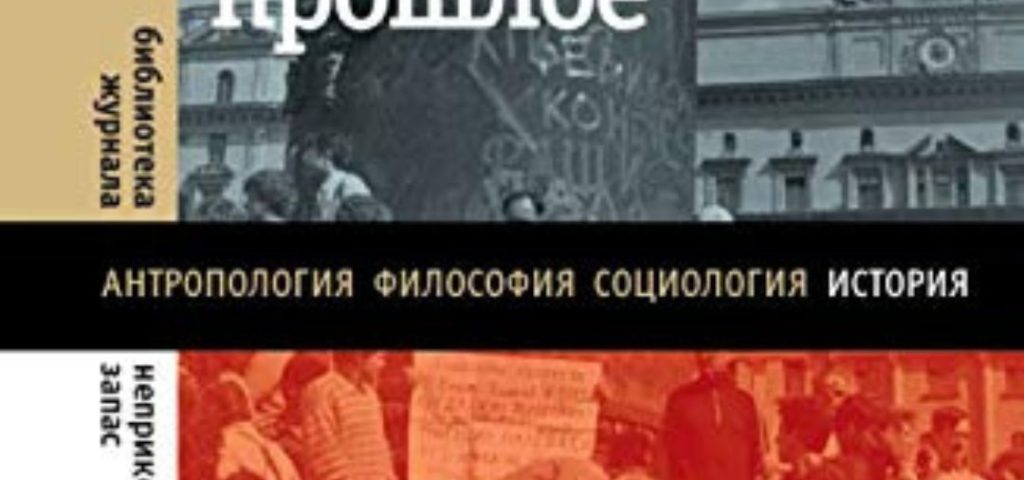
Книга Николая Эппле “Неудобное прошлое” потрясла русскоговорящее читающее сообщество этой весной и летом. Книга написана в 2020, но сейчас оказалась завораживающе актуальной. Почему люди немеют, если государство совершает преступления? Почему в обществе происходят бессознательные ужасающие процессы, если прошлое замалчивается? Почему бережное и уважительное преодоление молчания — важнейшее условие для исцеления, примирения, восстановления?
В ИРСУ мы часто говорим о тайне и правде усыновления. Что происходит с ребенком (и семьей), если о его прошлом молчат? Книга “Неудобное прошлое” — для меня кладезь поразительно аккуратных формулировок и более широкий контекст. В целом про тайну, про страх говорить, про нас людей, нашу неровную историю и возможность исцеления. Вдумчивый и честный разговор о неудобном прошлом и как с ним быть. Хотелось горстями цитировать книгу в школе приемных родителей и отправлять подчеркнутые цитаты уже действующим усыновителям. Так и есть. Многие проблемы оттуда — из невозможности говорить. Чувство узнавания не покидало и восхищало.
В середине книги я с удивлением обнаружила письмо, которое Наталья Родикова, друг ИРСУ и усыновитель, написала автору. Это было приятное открытие и подбадривающее ощущение солидарности. Многое из того, что наше общество ощущает сейчас, связано с тем, что пережили наши семьи в ХХ веке. И оно перекликается с тем, что мы преодолеваем, принимая в наши семьи детей с неудобным прошлым. Нужны такт, отвага и ощущение безопасности, чтобы найти нужную интонацию и начать этот разговор. С каждым отдельным человеком.
С разрешения автора приводим здесь это письмо целиком. Оно достойно внимания. Несомненно, книга целиком достойна рекомендации. Книга — событие. Если вы читали, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях (тут: https://t.me/irsuinfo/28)
Марина Иванова
Несколько последних лет для меня очевидно, что во всех наших разговорах о том, как нам обустроить Россию, не хватает психологии. Мы привычно обсуждаем историю и политику как процесс, в котором взаимодействуют и противостоят друг другу идеи и социальные группы, но совсем не обсуждаем жизнь и психологию частного человека, не интересуемся им, не изучаем глубинные мотивировки поступков, плохо знаем, как формируется и функционирует личность человека, как она защищает себя, какие механизмы выживания создает и что для нее является продуктивным, а что деструктивным. Мы только осуждаем или одобряем слова и поступки, не задумываясь, что, возможно, именно эти поступки — единственно возможная на данный момент форма сохранения внутренней целостности, единственная, хотя со стороны, возможно, и уродливая, форма выживания. Мы не осуждаем дерево за то, что оно, растя в тени другого, принимает странную форму — оно только так может протянуться к свету. Но как только мы начинаем говорить о человеке как об общественной единице, мы не готовы принимать во внимание его «природную» часть — его бессознательное. Мы только презираем его за формы, которое оно принимает. На мой взгляд, говорить сегодня о процессах и перспективах общества невозможно, не делая попыток психологической интерпретации, не пробуя экстраполировать психологию отдельного человека на поведение общественных групп. Возможно, многие вещи открылись бы нам под новым углом и, возможно, именно тогда у нас появилась бы возможность для некоторых управляемых перемен — для профессиональной работы с коллективными травмами, например.
На этом семинаре (международный семинар для журналистов, где Николай Эппле читал доклад о принятии трудного прошлого в 2017 году — прим. ред.) я много думала о параллели, которая все чаще приходит мне в голову в связи с широким обсуждением исторической памяти, ее удивительных трансформаций в нашем обществе и ее роли в возможном переосмыслении и перерождении себя как нации. Мне эта тема чрезвычайно интересна, например, потому, что мои сибирские прабабушки и прадедушки — последнее поколение, про которое я что-то знаю «вглубь». Возможно, раскулачивание (очень жестокое) травмировало их до такой степени, что у всей огромной родни напрочь отбило память. Где-то смутно маячил какой-то далекий Санкт-Петербург, дореволюционная ссылка, но кто именно из предков и, главное, почему оказался в Сибири — неизвестно. Среди своих была в ходу такая шутка: мол, надо бы все же поискать в документах, а то вдруг Зимний дворец — наш; а может, лучше и не искать — вдруг выяснится, что мы там с кистенем под мостом стояли. Интересно поговорить о проблемах моей самоидентификации, которые в разное время являются то проблемами, то ресурсом. Иногда я чувствую «силу земли» и своих крестьянских корней, иногда — ощущаю их как кандалы, которые надели на какую-то мою «другую» личность.
Одиннадцать лет назад мы с мужем стали приемными родителями, и с тех пор я много читаю о работе с травмами прошлого, которые остаются у ребенка, усыновленного даже в самом юном возрасте. Сегодня приоритетным считается «открытое» усыновление (или другая форма принятия), когда нет тайны, потому что именно тогда появляется возможность открыто проговаривать с ребенком подробности его прошлого, помогать ему осознать, каким образом оно формировало его личность. Наш сын с самого начала знал, что он приемный, что у него была жизнь до нас, он охотно слушал рассказы о том, каким он был малышом и как любил кататься в коляске, но шло время, и он совсем не рвался услышать, а что же было «до». Крупицы информации, которую мы иногда осторожно проговаривали, он принимал молча, но самостоятельных вопросов почти не задавал. За эти годы я усвоила, что на успешную работу с историей ребенка и на его желание говорить об этом в принципе влияют несколько факторов, которые хорошо проецируются на работу с коллективной памятью.
Разговор о прошлом должен идти в обстановке, в которой ребенок чувствует себя абсолютно защищенным. То есть ситуация должна быть достаточно стабильной долгое время, перед ребенком не должно стоять задачи выживания или налаживания отношений с его новым взрослым. Если экстраполировать на сегодняшнюю попытку работы с исторической памятью — соблюдено ли это условие? Есть ли в отношениях условного «ребенка», народа, и его взрослого (и сразу вопрос — а кто это, государство? или общественная группа, интеллигенция, которая чувствует за собой право начинать такую работу?) достаточно доверительные отношения? Чувствует ли себя сейчас условный «ребенок» в достаточном комфорте, чтобы иметь возможность, говоря метафорически, «извлечь» свои корни наружу и порассматривать их некоторое время? И, возможно, увидеть, что корней-то и нет, или они совсем другие, или держаться на них было бы самоубийством? Что безопаснее в ситуации, когда ты борешься за выживание, — заниматься сегодняшним днем или копаться в прошлом? С точки зрения бессознательного — конечно, остаться в сегодня. Потому что лезть в прошлое — эмоционально очень затратная и потенциально опасная ситуация.
Ребенок должен быть уверен, что что бы ни открылось в его прошлом, какие бы страшные ужасы ни творились в его биологической семье, даже если он принимал в них некоторое участие, это будет не его вина, а его беда. Почувствуем разницу: не вина, а беда. Прошлое формирует нас, оно часть нашей идентификации, и встроить в себя очевидно плохой, бракованный компонент — с точки зрения дальнейшего выживания не нужно и неконструктивно. То есть для того, чтобы ребенок эту часть прошлого все же принял и пережил, она не должна стать для него обвинением. Посмотрим на сегодняшний дискурс в этой теме. Мы бесконечно говорим о «вине» — о вашей, о нашей. Мы так сильно обвиняем, так вымогаем покаяние, что возникает абсолютно закономерный контрпроцесс. Когда новые родители приемных детей начинают интенсивно поминать их прошлое в негативном ключе, обвиняя родителей и часто выдавая авансы и самим детям (ты в группе риска, потому что твоя мама…, твой папа…, вы там привыкли по помойкам, дома жрать нечего было…), у детей возникает отторжение и отрицание: нет, у нас все было хорошо, вы все врете, и ели мы хорошо, и папка пил только по выходным, а когда был трезвый — так вообще лучший на всем свете. Не те ли самые слова мы слышим сейчас от людей, которые отрицают «преступления прошлого»? Не этому ли удивляемся, когда читаем, как все отлично было в Советском Союзе, да, стояли иногда очередях, но не всегда же? Да, Сталин сколько-то там расстрелял, но зато. Это настолько естественный механизм защиты, что абсолютно неестественно другое — ему удивляться, его не учитывать или высмеивать.
Эффективнее всего терапия травмы идет, когда ее проводит не новый родитель, а третья сторона — максимально не вовлеченная — терапевт, психолог, специалист по работе с травмой. Что поделать, слишком много интересов у нового родителя: ему хочется быть «лучшим родителем», чем «те», ему хочется, чтобы та жизнь, которую он сегодня создает для ребенка, признавалась этим ребенком как безусловно лучшая и правильная, и человечная, чем та, которой он жил до этого. Ему часто хочется, чтобы ребенок вообще осудил и отрекся от своих корней. Потому что он теперь должен любить играть на скрипке и ходить в театры и продолжать интеллектуальные традиции той семьи, в которой он оказался. Но вот беда: отказ от корней, замена их более «правильными» не всегда означает благо для ребенка. И третья сторона способна увидеть это лучше, эффективнее и спокойнее с этим поработать. Вопрос: кто в обществе должен и способен взять на себя эту роль? Какие социальные институты? Кто бы это ни был, они должны быть не вовлечены в сегодняшнее противостояние интеллигенция — народ. Если интеллигенция хочет остаться (стать?) для народа авторитетом, ей следует отойти от высокомерной и обвиняющей позиции «безусловно хорошего родителя». Ее роль — помогать разделять боль от прошлого, сожалеть о прошлом, но не быть судьей. По крайней мере так видится из параллели, которую я здесь выстраиваю.
Успешность работы не определяется ее завершенностью. Мой личный опыт, наблюдения за знакомыми приемными семьями показывают: будет сто кругов, и на каждом круге — свой разговор о прошлом. Будут откаты и продвижения вперед, и снова откаты, и снова продвижение. Ценность этой работы — в самой ее возможности. Если такая возможность есть — мы говорим о конструктивных отношениях. Это к вопросу о том, следует ли считать успешной работу с памятью о войне в Германии, если сегодня в ней возможны процессы, вроде бы полностью отрицающие результат этой работы. Но такая работа вряд ли может считаться когда-либо завершенной. Если травма была действительно серьезной, если от нее действительно многое зависит в будущем, то новые исторические условия, новые поколения будут ставить этот вопрос раз за разом и раз за разом решать его заново. Конечно, чем подробнее прошли прежний круг, тем больше инструментов для разговора в нынешнем.
Еще один момент: разговор о прошлом, как и любой другой, не должен быть насилием. То есть обе стороны должны быть к нему готовы и должны быть готовы к тому, что придется: ждать, отступать, начинать заново, менять подходы, меняться самим.
Возможно (да и скорее всего), такие параллели слишком прямы и слишком наивны. Но они помогают сменить контекст и увидеть что-то еще за «тупостью» и «ограниченностью» народа. Вот что я вижу, когда разговариваю о раскулачивании с отцом. Когда мы затрагиваем эту тему в контексте всей советской истории и сталинского террора — он каменеет, он принимает то, что произошло, как собственную вину, он оправдывает советский режим, и эта лишняя вина ему не нужна, он только сопротивляется. Но когда разговор начинается с частной истории семьи, с того, что все у них были работящими, что вот и отец весь в них, такой же — построит хозяйство из ничего и оно будет расти и умножаться, потому что все честные и все в работе себя не жалели, и когда мы выходим потом на этот страшный зимний лес, куда на телегах свезли женщин и грудных детей без одежды, без еды, без всего, со случайно прихваченными лопатами и топором, а все добро отобрали и мужиков отправили бог знает куда (куда же? ведь боятся знать до сих пор), и дети шли за матерями по сугробам и просили есть, и много кто не выжил, и так далее — если я в этот момент не обвиняю весь режим, а только разделяю его боль, боль частного человека, разговор дальше идет совсем по-другому. Иногда я вижу, что отец принимает свою историю и шире понимает историю страны. И я стараюсь не обвинять (никого), потому что это больше его прошлое, чем мое, и мне в такие моменты очень важно, чтобы он пережил это в первую очередь для себя. Чтобы не сработали механизмы отторжения и защиты, чтобы внутренняя работа прошла спокойно, чтобы он видел — я на его стороне.
Наталья Родикова
Цитируется по книге Николая Эппле “Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах” (Москва, Новое литературное обозрение, 2020)
Помогите нам продолжать разговор о преодолении сиротства в России. ИРСУ работает благодаря пожертвованиям сторонников
Что еще почитать и посмотреть? Смотрите нашу подборку полезных материалов






